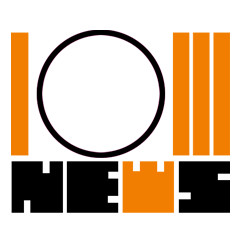Рецензии: Михаил Рабинович. Записки советского интеллектуала
Михаил Рабинович. Записки советского интеллектуала / Публикация и коммент. О.В.Будницкого; вступ. статья Л.А.Беляева, О.В.Будницкого, В.Я.Петрухина. - М.: Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, 2005. - 392 с.
Дата публикации: 21 Июня 2005. Григорий Амелин
Река начинается с ручейка, театр - с вешалки, песня - с улыбки, а книжка начинается с обложки. С давним серийным оформлением "России в мемуарах" на диво все в порядке. Но неведомо какие ретивые доброжелатели "удружили" Рабиновичу с "величанием" - не могу поверить, чтобы человек так достойно и темпераментно пишущий, наделенный чувством юмора и вкуса, мог сам нахлобучить на свои воспоминания такой претенциозный шапокляк. Какой-то все же непорядок таится в заморском прославленном кремниевом королевстве (последние годы жизни М.Г. провел у сына-программиста в Силиконовой долине). Сын любезно предоставил рукопись отца к печати, значит он и ответствен за судьбу оной, то есть и за то, что допустил ее называние "Записками советского интеллектуала". Но отбросим расхожую народную мудрость - будем встречать не по одежке. "Записки" Михаила Григорьевича Рабиновича - во всех отношениях качественный продукт: добротная проза, увлекательное и эрудированное повествование, честность и прозорливость историка, дружелюбие и внимательность хорошего человека. Сам автор аттестует себя как кунктатора, человека медлительного, и действительно, свои записи он вел более тридцати лет. И хотя у пишущего не было надежд на публикацию книги, все главки-рассказы изящно выстроены, их взаимосвязи прочувствованы без тени неряшливости и повторов.
Мемуарам предпослано отлично исполненное предисловие "Москва и Рабинович", написанное тремя соавторами. Вот его многозначный зачин:
"Речь идет не о "нарицательном" Рабиновиче, а о вполне реальном и хорошо известном в кругах историков, археологов, этнографов, историков архитектуры ученом - докторе исторических наук Михаиле Григорьевиче Рабиновиче. Чтобы ввести читателя в курс дела, приведем фрагмент из воспоминаний известного историка-диссидента А.М.Некрича, относящийся к периоду "борьбы с космополитизмом": "Мы говорили между собой и обсуждали происходящее. Но не только разговаривали, а старались противостоять напору черносотенцев, сделать что-то для преследуемых людей. То, что мы делали, было совсем немного, но все же это давало возможность жить. Мой друг Жора Федоров (известный ученый-археолог и литератор Г.Б.Федоров), бывший одно время членом партийного бюро Института археологии, был приглашен на заседание дирекции Института для обсуждения вопроса, что делать с Михаилом Григорьевичем Рабиновичем. Директор Института А.Д.Удальцов настаивал на отстранении Рабиновича, многие годы руководившего археологическими раскопками в Москве, от работы. Аргументация была более чем ясная. Удальцов промычал в обычной своей манере: "Вот Рабинович, и вот Москва. И как же это получается?!" Сказал и обвел всех своими прозрачными судачьими глазами. Все молчали, тогда Удальцов добавил: "Мы должны освободить Рабиновича от работы". После этого каждый присутствующий высказал свое мнение. Дошла очередь и до Г.Б.Федорова. Он сказал: "Я думал, что меня пригласили на заседание дирекции и парткома Института, а я присутствую на заседании "Союза русского народа"". Встал и ушел. Рабиновича взяли на работу в Институт этнографии, но раскопками в Москве он больше не ведал" (стр. 5).
Воспоминания Рабиновича в полной мере подтверждают эти аттестации. Неизбежные для драматургии места и времени отношения автора с собственной фамилией вкраплены в рассказы без трагического накала, а с присущими еврейскому (и армянскому) анекдоту печальным простодушием и абсурдистским гротеском. Москва, 1942-1943 годы. Рабиновича тогда назначили заведующим Научной библиотекой МГУ, и он через сорок лет вспоминает:
"Библиотека жила. Она не только хранила и выдавала книги. Она пополнялась, приобретала их, без чего не могла бы жить и сохранять свое значение. <...> Понемногу восстанавливались даже международные связи, мы стали получать по обмену зарубежные издания (конечно, только от союзных стран, но у них оказались прочные контакты). Однажды мы узнали, что вышла книга "Правда о религии в России", а к нам в обязательном экземпляре она не поступала. - И не поступит, - ответили на запрос в Книжной палате. - Вы получаете обязательный экземпляр государственных изданий. А это издание Московской патриархии. - Что ж, напишем в патриархию. И в самом деле написали (хоть мне и указывали тогда, полушутя, на некоторую курьезность моей еврейской подписи) и получили все же несколько экземпляров сенсационной тогда книги" (стр. 192).
О не столь безобидных историях с вынужденными псевдонимами автор повествует далее с неизменным достоинством и лукавством:
"И начал я снова писать. <...> Еще в апреле 1942 года удалось сделать на сессии, посвященной 700-летию Ледового побоища, доклад о новгородском войске. <...> Даже журнал "Военная мысль" заказал мне статью об Александре Невском (тогда как раз учредили и его орден). С этим связана и первая дискриминация. Как-то осенью в моем кабинете появился молодой (хотя и старше меня) человек чрезвычайно семитической внешности: курчавые волосы, горбатый нос, глаза навыкате. Притом он был красив и обходителен.
- Я из редакции "Военной мысли". Тут у нас ваша статья...
- Как раз недавно я говорил с вашим редактором и теперь учел все его замечания.
- Да, конечно... нас не это смущает... видите ли, ваша фамилия...
- Кого может смущать честная еврейская фамилия? - я еще шутил.
А ему, видимо, было не до шуток.
- У меня самого такая же. Позвольте представиться: Юдович...
Да, это был Юдович, тогда еще шахматный мастер, "в миру" же - сотрудник "Военной мысли". Потом мы встречались в шахматном клубе.
- Видите ли, тут новые ордена... и такая фамилия, как у нас с вами, не совсем удобна...
Нет, я решительно ничего не мог понять. <...> Просто диккенсовская ситуация.
- Редакция знала, как моя фамилия, когда заказывала статью?
- Да, конечно, но...
- Можете не печатать, но гонорар вы обязаны уплатить.
- Ах, да не в этом дело. Мы заплатим. Хорошо заплатим. Но сроки... номер уже набран... Мы вас очень просим подписаться псевдонимом. Каким угодно.
- Не вижу надобности.
- Прошу вас, не отказывайтесь сейчас, подумайте. Мы вам еще позвоним.
Позвонил, конечно, уже его начальник. И не только мне.
- Да брось ты. Не вламывайся в амбицию. Лучше посмеемся над ними, сказал мне Альберт Кинкулькин. - Ведь в твоей фамилии "ич" - как раз славянская приставка. Ее-то и отбрось. Оставь "Рабинов".
Эта идея показалась мне забавной. Статья так и вышла" (стр. 197-198).
Мемуары "советского интеллектуала" снабжены обстоятельным комментарием и аннотированным именным указателем (правда, горемычные псевдонимы Рабиновича там все же не учтены). Научный аппарат выполнен на уровне, достойном и НЛО, и постоянного редактора серии А.И.Рейтблата. Вот только несколько удивляет направленность примечаний, так как создается впечатление, что адресованы они обобщенному "международному", европейскому или американскому "читателю", но никак не ориентированы на читателя российского. Кому здесь, спрашивается, надобно объяснять, что или кто есть "Воронья слободка", газета "Вечерка", незабвенный "Мойдодыр", граф Монте-Кристо, мопассановская Пышка, Кола Брюньон или когда и где застрелился Маяковский?
И, напротив, шутливый пассаж Рабиновича о рубрикации в библиотеке МГУ остается не проясненным. Автор говорит об оставшейся неприкосновенной систематике книг, разработанной Ф.Ф.Рейссом еще в начале ХIХ века:
"Когда-то она была очень современна и отвечала потребностям дня, включая, например, такие рубрики, как "Торговля рабами и алмазами", "Болезни мальчиков и особенно девочек". Естественно, что рубрики эти давно устарели, а смысл некоторых из них был и вовсе забыт. Что такое, например, "чемезическая литература"? Рейсс, наверное, знал, но давно уже никто не знает - и еще с прошлого века к этому разделу стали относиться все книги, которые не знали, куда отнести. Можно себе представить, каков он теперь. - Ну, посмотрим чемезическую? - любил спрашивать Спицын, подмигивая нам, как сообщник" (стр. 193).
Так читатель и не узнает, что такое эта самая "чемезическая литература", раз и академики и библиотекари не знают. Но шутка ведь состоит в том, что они-то (в отличие от читателя) знают, что означало собственно слово "чемез". Читаем у Даля: "Чемез - карман; денежный кошель, гамза, денежник; калита; сумка; богатство, денежное имущество, наличник, истинник, деньга..."
Иногда здравый смысл начисто изменяет комментаторам. Рабинович вспоминает, как в 1938 году, после первого курса он ездил на раскопки в Новгород вместе с Сашей Осповатом (стр. 140). Комментария нет, но в "Именном указателе" читаем: "Осповат Александр Львович (р. 1948) - студент исторического факультета МГУ, впоследствии историк русской литературы - стр. 140". Поясняем. Ездил в Новгород Александр Борисович Осповат (р. 1918) - историк, родной (сводный) брат ныне здравствующего испаниста-литературоведа Льва Самойловича Осповата. А.Л.Осповат - родной племянник погибшего в 1941 году Александра Борисовича (он и имя свое получил в память о нем).
Хотелось бы подвести итог на этой странной ноте родственных связей. У книги есть очень ясный пафос и не менее простой, хоть и не названный, моральный девиз. Попробуем его проявить, зайдя, так сказать, сбоку. Рассказывая о невероятной и страшной судьбе своего родственника, хорошего художника Юрия Ларина (сына Бухарина), Рабинович вскользь говорит о "непотизме" ("непос" по-латыни - "племянник"), но вовсе не как о протекционизме. Сам Михаил Григорьевич - племянник многих (им и посвящены отдельные главы книги), и в частности, - внучатый племянник "старого Граната", Игнатия Наумовича Граната, создателя Энциклопедического словаря. (Кстати, Ваня Петровский - ныне Йоханан Петровский-Штерн - как-то заметил, что юноша на энциклопедической картинке работы Л.О.Пастернака, удивительно похож на сына художника Борю.) И Розанов, и Шкловский, и Мандельштам рассматривали историю литературы (и шире - культуры) как линии, где наследование часто идет не только по прямой (от отца к сыну), но и от дяди к племяннику. Давайте не забывать, что все мы "нарицательные" рабиновичи. Помните? Вот и славно.
http://old.russ.ru/publishers/examination/20050621_ga.html
Ревекка Фрумкина
М. Г. Рабинович. Записки советского интеллектуала
Опубликовано в журнале Критическая Масса, номер 3, 2005
Публикация и коммент. О. В. Будницкого; вступ. ст. Л. А. Беляева, О. В. Будницкого, В. Я. Петрухина. М.: Новое литературное обозрение; Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства, 2005. 392 с. Тираж 2000 экз. (Серия “Россия в мемуарах”)
Михаил Григорьевич Рабинович (1916—2000), известный археолог и этнограф, знаток истории Москвы, прожил счастливую жизнь. Счастливую — “благодаря” и счастливую — “несмотря на”. Рассказами о том, из чего складывались эти “благодаря” и “несмотря”, прежде всего и интересны его мемуары, озаглавленные “Записки советского интеллектуала”.
“Несмотря” в данном случае объяснить проще, чем “благодаря”, потому что у молодого человека 1916 года рождения, к тому же еврея, да еще и историка-москвоведа, в описываемые Михаилом Григорьевичем времена вообще не так много было шансов просто выжить.
Во-первых, можно было и не пережить Большой террор — особенно если учесть семейные и дружеские связи Рабиновича. Достаточно того, что он был внучатным племянником одного из издателей словаря Гранат, или того, что Юрий Ларин (для автора — дядя Мика, поскольку подлинное имя Ларина было Михаил Лурье), приемный отец жены Бухарина Анны Лариной, приходился ему двоюродным дядей.
Во-вторых, хотя М. Г. не воевал, поскольку был признан негодным по здоровью, но он вполне мог погибнуть от шального осколка, дежуря ночами на крыше старого здания МГУ, научной библиотекой которого (то есть “Горьковкой”) он заведовал в самые тяжелые годы — с 1941-го по 1943-й.
В-третьих, начиная с 1946 года и по 1951-й Рабинович был руководителем Московской Археологической экспедиции при Институте истории материальной культуры.Тем самым он был в должной мере на виду, чтобы попасть под волну репрессий как “космополит”, то есть как русский интеллигент и этнический еврей одновременно. Оттуда — равно как из Академии наук, его выгнали, — но, как он сам пишет, ведь не посадили и не выслали…
Что касается разных “благодаря”, то на первое место я бы поставила совершенно особую, нечасто встречающуюся структуру личности Михаила Григорьевича. Страсть к науке гармонично сочеталась у него с уравновешенностью и любовью к жизни в разнообразных ее проявлениях. Он любил лыжи, дружеское застолье, музыку, театр, стихи, природу. У него было множество друзей и знакомых, с которыми он поддерживал живые связи. На страницах воспоминаний то и дело упоминаются тети и племянники — двоюродные и троюродные; соученики по школе, техникуму и университету; соседи по квартире и домам отдыха, коллеги и сослуживцы, знаменитые писатели и рядовые сотрудники библиотеки — соратники Рабиновича в тяжелые военные времена.
Все в этой жизни, что могло М. Г. доставить хотя бы минутную радость, ее действительно доставляло. Яркий осенний лист в руках учительницы, красные стволы сосен, освещенные зимним солнцем, тридцатикилометровая прогулка на лыжах в окрестностях Звенигорода, удачно сваренная на костре каша, пряслице XII века, найденное в раскопе в устье Яузы…
Насколько можно судить по книге, у Рабиновича не было личных недоброжелателей — быть может, он не хотел их замечать. Что касается оскорбительных своей издевательской двусмысленностью разговоров с чиновниками, которые на себе, по-моему, испытал каждый, кто проработал несколько десятилетий в системе нашей Академии наук, то Рабинович описывает их как искусный драматург: несколько реплик, необходимые ремарки — и мрачный водевиль готов.
Литературный дар автора несомненен — прозрачный слог, мастерски написанные портреты, замечательно переданная фактура речи. В некоторых случая я могу судить о “попадании в яблочко”. Я еще застала в МГУ Арциховского, на лекциях которого хоть раз, да побывал тогда каждый гуманитарий. Это называлось “арцихология”: я даже не помню темы лекции, зато помню, что сидела я на ступеньках Комаудитории на своем (еще школьном) портфеле.
Вступительная статья к мемуарам озаглавлена “Москва и Рабинович”, потому что М. Г. отстранили от руководства раскопками в Москве как еврея. А ведь именно Рабиновичу довелось начать раскопки в Зарядье, варварски разрушенном под постройку гостиницы “Россия”. Позже, опираясь только на свой неформальный, но безусловный авторитет, он успел много сделать во время возведения Дворца Съездов на территории Кремля, где до того раскопки принципиально были невозможны.
Сейчас даже трудно вообразить необычность той части старой Москвы, которая называлась Зарядьем. В конце 1940-х и до середины 1950-х мне случалось бывать там почти ежедневно: на Варварке (тогда — ул. Разина) помещалась Всесоюзная Библиотека иностранной литературы, а в Китайском проезде, в комплексе зданий Делового двора, работали мои родители. Район Зарядья представлял собой необычайно плотную застройку, где небольшие церквушки, украшенные расписными изразцами, чередовались с двух-трехэтажными жилыми домами и многочисленными палатами, которые в моей памяти сохранились как уменьшенные копии палат, еще и ныне существующих в районе Пречистенки. Мощенные булыжником улицы и проулочки спускались к Москве-реке уступами и лесенками со стертыми от старины плитами и ступенями.
Разумеется, церкви в Зарядье не были действующими, но они вовсе не выглядели разваливающимися. Облупившаяся краска и местами отколотые изразцы сохраняли ощущение подлинности. (Именно этого и оказались лишены многие, казалось бы, тщательно отреставрированные постройки, изъятые из своего контекста, как, например, церковь Симеона Столпника в начале Нового Арбата.)
В начале 1960-х я решила показать Зарядье своему коллеге из Швеции — и до сих пор помню охвативший меня ужас. При взгляде вниз и вдаль с высокой площадки каких-то палат на Варварке глазу открывались развалины, более всего напоминающие последствия бомбежки. Вся рукодельная красота была уничтожена ради постройки огромного и безликого (чтобы не сказать безобразного) комплекса гостиницы “Россия”, который нынче тоже предназначен к сносу. Археолог мог лишь попытаться донести до потомков артефакты из культурных слоев, оказавшихся временно доступными для раскопок…
У Михаила Григорьевича Рабиновича было, что называется, легкое перо. Он был замечательным популяризатором: недаром его книга для детей “Судьбы вещей” переиздавалась трижды. Вместе с тем по стилю “Записки советского интеллектуала” не слишком отличаются от научных текстов Рабиновича, адресованных профессионалам и посвященных, например, описанию Москвы XIII— XVI веков (см. “Вопросы истории”. 1977. № 11).
Композиционно книга М. Г. — и в самом деле “записки”: это небольшие очерки, каждый из которых имеет не только фабулу, но и сюжет. Вступлением нередко служит пейзаж или неожиданно всплывшее воспоминание, затем разворачивается главная тема — то, ради чего или ради кого написан данный очерк, и всегда есть кода — преимущественно в умиротворенной тональности, нередко печальной, а иногда — откровенно иронической. По прочтении книги остается чувство, что эти очерки писались не для печати. Кто был их мысленным адресатом? Скорее всего, младшие современники, семья, друзья — некоторый референтный круг, к которому Михаил Григорьевич, несомненно, мысленно обращался. Это им он хочет рассказать, “как это было на самом деле”: как голодали, как после бомбежки здания “Горьковки” спасали смерзшиеся книги, как праздновали победу, как теряли работу, друзей. И, наконец, как непросто было сохранить себя как личность. Две трети очерков Рабиновича датированы 1960—1970-и годами; начиная с 1980-х он пишет реже, а в 1990-е преимущественно правит написанное ранее.
Рабинович не старается казаться проницательнее большинства: он вообще не из тех, кто хотел бы казаться: достаточно прочитать главы “Пятьдесят третий”, “Оттепель”. М. Г. всегда сдержанно пишет о трагедиях сугубо личных — о смерти матери, погибшей в давке, предшествовавшей похоронам Сталина; об ожидании ареста зимой 1953 года. Волю себе он дает, рассказывая о друзьях, коллегах, об их драматических, а нередко и трагических судьбах.
Судя по общей тональности рассказов, Михаил Григорьевич был человеком сангвинического склада, склонным видеть во всем и во всех скорее хорошее, чем дурное. На фотографиях видно, как хорош собой он был и в 60 лет, и в 70, — крупный, статный, с густой шевелюрой и красивой седеющей бородой.
При этом его априорная расположенность к людям вовсе не мешала ему быть достаточно прозорливым в оценках — это видно, например, в грустном повествовании о судьбе пасынка известного медиевиста С. Д. Сказкина. Со Сказкиным-старшим, его учителем еще с университетской скамьи, М. Г. связывала многолетняя дружба. Коля, сын жены Сказкина от первого брака, с которым в молодости М. Г. бывал в экспедициях, ушел на фронт добровольцем и, уже будучи в армии, попал в школу МГБ. Это исковеркало его личность и в конечном счете погубило морально.
Как писал Реймон Арон, “наше настоящее есть следствие нашего прошлого, но в нашем сознании наше прошлое зависит от нашего настоящего”.
Для душевного здоровья человеку необходимо представлять свое прошлое прежде всего связным: видит ли он свою жизнь как последовательность свершений или как череду заблуждений, он не может представлять ее как россыпь разрезанных кадров. Рабинович идентифицирует себя как обычного человека своего времени, не скрывая ни увлеченности строительством нового мира, ни надежд и заблуждений, которые он разделял с другими людьми своей эпохи. Принадлежность своему времени и своей профессии и образовывала ту внутреннюю связность личности, благодаря которой М. Г. сумел организовать работу “Горьковки” в самых невозможных условиях, написать многочисленные книги и статьи, быть открытым для дружбы с Дорошем и Кавериным, любить музыку и не поддаваться отчаянию в самые худшие времена.
М. Г. Рабинович умер в 2000 году в США, где провел последние несколько лет жизни вместе с семьей сына, который, будучи программистом, еще в начале 1990-х эмигрировал в Силиконовую долину. Заглавие книги, так удивившее Г. Амелина, откликнувшегося на “Записки…” в “Русском журнале” было написано на папке с текстом рукой самого М. Г. Публикаторам оставалось лишь уважать авторскую волю.
Положительно оценивая научный аппарат книги, тот же рецензент полагает, что российскому читателю не нужно объяснять, “что или кто есть "Воронья слободка“, газета "Вечерка", незабвенный "Мойдодыр", граф Монте-Кристо, мопассановская Пышка, Кола Брюньон или когда и где застрелился Маяковский”.
Боюсь, что сказанное справедливо лишь в целом, то есть для людей “в летах” и к тому же образованных. Что до частностей, то не стоит забывать, что мемуары — это ценный исторический источник. Лет этак через семь-восемь, быть может, даже выпускники РГГУ не будут знать, что такое “Вечерка”. Ибо что это за “Пышка” и кто такой Кола Брюньон, они не знают уже сегодня.
https://magazines.gorky.media/km/2005/3/m-g-rabinovich-zapiski-sovetskogo-intellektuala.html
******
Толстов, Сергей Павлович
http://opentextnn.ru/history/archeology/scientific/tolstov/tolstov-s-p-po-sledam-drevnehorezmijskoj-civilizacii-ch-1/?id=1667
член-корреспондент АН СССР ,профессор,доктор исторических наук
(25.01.1907 — 28.12.1976)
Родился 12(25) января 1907 г. в Петербурге в семье потомственных военных. Вместе с братьями был определен во 2-й Петербургский кадетский корпус, после революционных событий 1917 г., учился в Оренбургском кадетском корпусе, воспитывался в детском доме в Москве.
В 1923—1929 гг. учился в МГУ, сначала на физико-математическом, а затем на кафедре антропологии НИИ антропологии, принимал участие в работе студенческих краеведческих кружков, в работе экспедиций. В 1928/1929 гг. участвовал в работе Первой Всесоюзной конференции историков–марксистов, в 1929 – 1930 гг. продолжил учебу на историко-этнологическом факультете по специальности «Этнография тюркских народов».
После обучения в аспирантуре по специальности «История и археология Средней Азии» (1932—1934) С.П. Толстову была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. В 1934 г назначен Ученым секретарем Московского отделения ГАИМК.
1938 г. — начало археологических работ в Туркмении (позже — Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР). С.П. Толстов возглавлял ее вплоть до середины 1960-х гг. В 1939 г. стал заведующим кафедрой этнографии исторического факультета МГУ, заведующим Московским отделением Института истории материальной культуры АН СССР.
В июле 1941 г. добился отправки на фронт, участник обороны Москвы, руководил группой разведчиков, командовал взводом. После ранения эвакуирован в Красноярск, демобилизован и откомандирован в Ташкент для работы в Академии наук. Коллеги считали его погибшим.
В 1942 г. в Ташкенте защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук «Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования». В 1943—1965 гг. — директор Института этнографии АН СССР, в 1950—1953 гг. — директор Института востоковедения АН СССР и ученый секретарь Президиума Академии наук СССР. В 1939—1951 гг. заведующий кафедрой этнографии и декан исторического факультета МГУ. Был президентом VII Международного Конгресса антропологических и этнографических наук (Москва, 1964).
Его перу принадлежит более 300 работ. С. П. Толстов был главным редактором 18-томного издания «Народы мира. Этнографические очерки», выпущенного Институтом этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая в период с 1954 по 1966 гг.
Источник: сайт «Отечественные этнографы и антропологи. XX век»
Родился в семье потомственных военных. Отец, П.С. Толстов, – казачий офицер, проходивший службу в штате Сводно-Казачьего Лейб-гвардии полка. Дед, С.Е. Толстов, — генерал от кавалерии, наказной атаман Терского казачьего войска, начальник Терской области в 1900—1905 гг. Брат, В.С. Толстов, — последний атаман Уральского казачьего войска. Вместе с братьями был определен во 2-й Петербургский кадетский корпус, после революционных событий 1917 г., учился в Оренбургском кадетском корпусе, воспитывался в детском доме в Москве.
В 1923 – 1929 гг. учился в МГУ, сначала на физико-математическом, а затем на кафедре антропологии НИИ антропологии, принимал участие в работе студенческих краеведческих кружков, в работе экспедиций. В 1928/1929 гг. участвовал в работе Первой Всесоюзной конференции историков–марксистов, в 1929 – 1930 гг. продолжил учебу на историко-этнологическом факультете по специальности «Этнография тюркских народов». После обучения в аспирантуре по специальности «История и археология Средней Азии» (1932 – 1934) С.П. Толстову была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. В 1934 г назначен Ученым секретарем Московского отделения ГАИМК. 1938 г. – начало археологических работ в Туркмении (позже – Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР). С.П. Толстов возглавлял ее вплоть до середины 1960-х гг.
В 1939 г. стал заведующим кафедрой этнографии исторического факультета МГУ, заведующим Московским отделением Института истории материальной культуры АН СССР.
В июле 1941 г. добился отправки на фронт, участник обороны Москвы, руководил группой разведчиков, командовал взводом. После ранения эвакуирован в Красноярск, демобилизован и откомандирован в Ташкент для работы в Академии наук. Коллеги считали его погибшим. В 1942 г. в Ташкенте защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук «Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования». В 1943 –1965 гг – директор Института этнографии АН СССР, в 1950 – 1953 гг. – директор Института востоковедения АН СССР и учёный секретарь Президиума Академии наук СССР. В 1939—1951 гг. а заведующий кафедрой этнографии и декан исторического факультета МГУ. Был президентом VII Международного Конгресса антропологических и этнографических наук (Москва, 1964). Последние годы жизни тяжело болел. Его перу принадлежит более 300 работ. С. П. Толстов был главным редактором 18-томного издания «Народы мира. Этнографические очерки», выпущенного Институтом этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая в период с 1954 по 1966 гг.