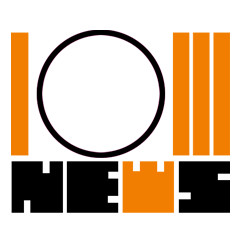Обидеть художника может писатель: ехидный англичанин смотрит картины
Новой книге Джулиана Барнса в русском переводе оригинального названия Keeping An Eye Open очень подошла бы озорная русская идиома «Разуй глаза». Однако издатели решили не рисковать и предпочли благопристойное предложение читателю открыть зеницы — чтобы ознакомиться с очередной порцией ехидных наблюдений об изобразительном искусстве от британского охальника-постмодерниста. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели специально для «Известий».
Джулиан Барнс
«Открой глаза. Эссе об искусстве»
СПб.: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2025. — пер. с англ. В. Ахтырской, В. Бабкова, А. Борисенко и др. — 416 с.
Сборник эссе Джулиана Барнса о его восприятии живописи открывает старая работа, которой автор явно очень дорожит, — беллетризованный анализ картины Теодора Жерико «Плот «Медузы», впервые обнародованный в рамках романа «История мира в 10½ главах» 1989 года. Это довольно эффектное начало, тем более что сама трагическая предыстория картины достаточно захватывающа, и Барнс не жалеет самых жирных красок, представляя ее в лицах, оживляя каждого из персонажей картины, а потом плавно переходя к общетеоретическим рассуждениям о том, как воплотить катастрофу в искусстве. Тут писателя охватывают приступы пафоса, знакомые всем его читателям, уже привыкшим к тому, что самые важные понятия необходимо писать и произносить про себя с большой буквы, с дополнительным пиететом. «Конечно, мы должны понять ее, эту катастрофу; а чтобы понять, надо ее себе представить, — отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный выверт Природы, этот сумасшедший человеческий миг?» — размышляет Барнс, оправдывая всяческие катастрофы и неприятности тем, что они становятся пищей и почвой для гениальных произведений искусства.
Смотрится ли сейчас барнсовский «Плот «Медузы» как-то иначе, помещенный в другой контекст? Пожалуй, нет, если не считать того, что автор постарел на 35 лет и с высоты прожитой жизни может уже не просто изливать испытанные перед той или иной картиной эмоции, но и сооружать основательные концептуальные постройки. Вспоминая, как он впервые начал заниматься искусствоведением именно с жутковатой картины Жерико, Барнс систематизирует накопленный опыт галерейного завсегдатая: «Я не руководствовался никаким определенным планом, но, собрав свои тексты воедино, обнаружил, что непреднамеренно следовал тому самому сюжету, который начал неуверенно разматывать еще в 1960-х: истории движения искусства (в основном французского) от романтизма к реализму и к модернизму».
Фото: издательство «Азбука» Джулиан Барнс «Открой глаза. Эссе об искусстве»Трансформации живописного романтизма и его пропорции в творчестве того или иного живописца («Если романтику Делакруа недоставало романтического темперамента, то реалист Курбе обладал эгоманией истинного романтика») остаются лейтмотивом книги, о котором автор никогда не забывает, вроде бы спонтанно и непринужденно перескакивая от одного симпатичного ему художника к другому. При этом симпатия ничуть не мешает довольно едким и разоблачительным замечаниям, например, относительно Гюстава Курбе, которого Барнс атрибутирует как бесспорно великого художника, но при этом расчетливого самопиарщика: «При всем его либертарианском социализме, при всем потрясании основ и искреннем желании очистить запущенные конюшни французского искусства в нем всё же было немало евтушенковщины, немало от лицензированного бунтовщика, знающего, как далеко можно зайти и как монетизировать свой гнев».
То, что Барнс называет «евтушенковщиной» (тщательно выверенная поза, когда ты в любой момент самой искренней запальчивости прекрасно контролируешь, как выглядишь со стороны), в полной мере присуще и ему самому, старательно соблюдающему имидж веселого модерниста, ломающего ветхие реалистические устои и немного завидующего художникам с их более гибкими инструментами: «Из всех искусств писатели более всего завидуют музыке, ибо она одновременно предельно абстрактна и вместе с тем непосредственна, а также не нуждается в переводе. Однако живопись уступает ей совсем немного, ведь выражение и средства выражения в ней совпадают во времени и пространстве, тогда как романисты обречены мучиться, медлительно, последовательно, шаг за шагом, скрупулезно выбирая слово, выстраивая сначала предложение, затем абзац, выдумывая фон, придавая образам психологическую убедительность, чтобы на славу соорудить кульминационную сцену».
Отлично прослеживается в новом сборнике и излюбленный внутренний сюжет Барнса, которого давно занимает (а точнее сказать, напрягает) тема старения и неумолимо заканчивающегося времени жизни, отчетливо звучащая, например, в посвященному Ван Гогу эссе «Селфи с «Подсолнухами»: «Я не уверен, что картины Ван Гога сильно изменяются для нас со временем, что мы начинаем смотреть на него по-иному и в 60 или в 70 открываем в нем для себя больше, чем в 20. Скорее, это отчаянная честность художника, его смелый, великолепно яркий цвет и глубоко искреннее желание, чтобы в его картинах «было нечто утешительное», возвращают нас в юность, позволяя снова ощутить себя двадцатилетними. А это не такое уж скверное время. Поэтому, возможно, и правда пора сделать селфи с «Подсолнухами».
В принципе, все рассуждения Барнса о художниках — своего рода селфи на фоне более или менее знаменитых полотен: любой персонаж книги интересен британскому беллетристу лишь в той степени, в которой он отражает и помогает высветить писательские комплексы, страхи и обсессии. Но именно эта зашкаливающая субъективность и делает искусствоведение от Барнса интересным, когда даже сомнительные замечания, смелые натяжки и спорные выводы вызывают чисто человеческое сочувствие: это не холодная аналитика музейного куратора, прикидывающего наилучшую развеску шедевров, а трогательная попытка в каждой картине разглядеть собственные болевые точки и, если получится, расцарапать и расковырять их до самого подрамника.
В рамках этого курса собственной психотерапии Барнс в самом начале книги с удовольствием проходится по своим родителям, у которых было плоховато с художественным вкусом и потому по стенам висело всякое барахло, а заодно кокетливо сообщает о своей правильной сексуальности: «Обнаженная маслом в золоченой раме представляла собой, вероятно, безвестную копию XIX века со столь же безвестного оригинала. Родители купили ее на аукционе в пригороде Лондона, где мы жили. Я помню ее главным образом потому, что находил совершенно антиэротичной. Это было странно, ведь большинство других изображений неодетых женщин оказывали на меня, так сказать, здоровое воздействие. Казалось, в этом и есть смысл искусства: своей торжественностью оно лишает жизнь радости».
Последнее замечание, надо признать, не лишено точности и остроумия: традиция говорить о великих шедеврах с торжественным уважением часто лишает читателя радости от чтения искусствоведческой литературы. Барнс всю жизнь героически борется с этой замшелой традицией и одерживает над ней еще одну маленькую победу.